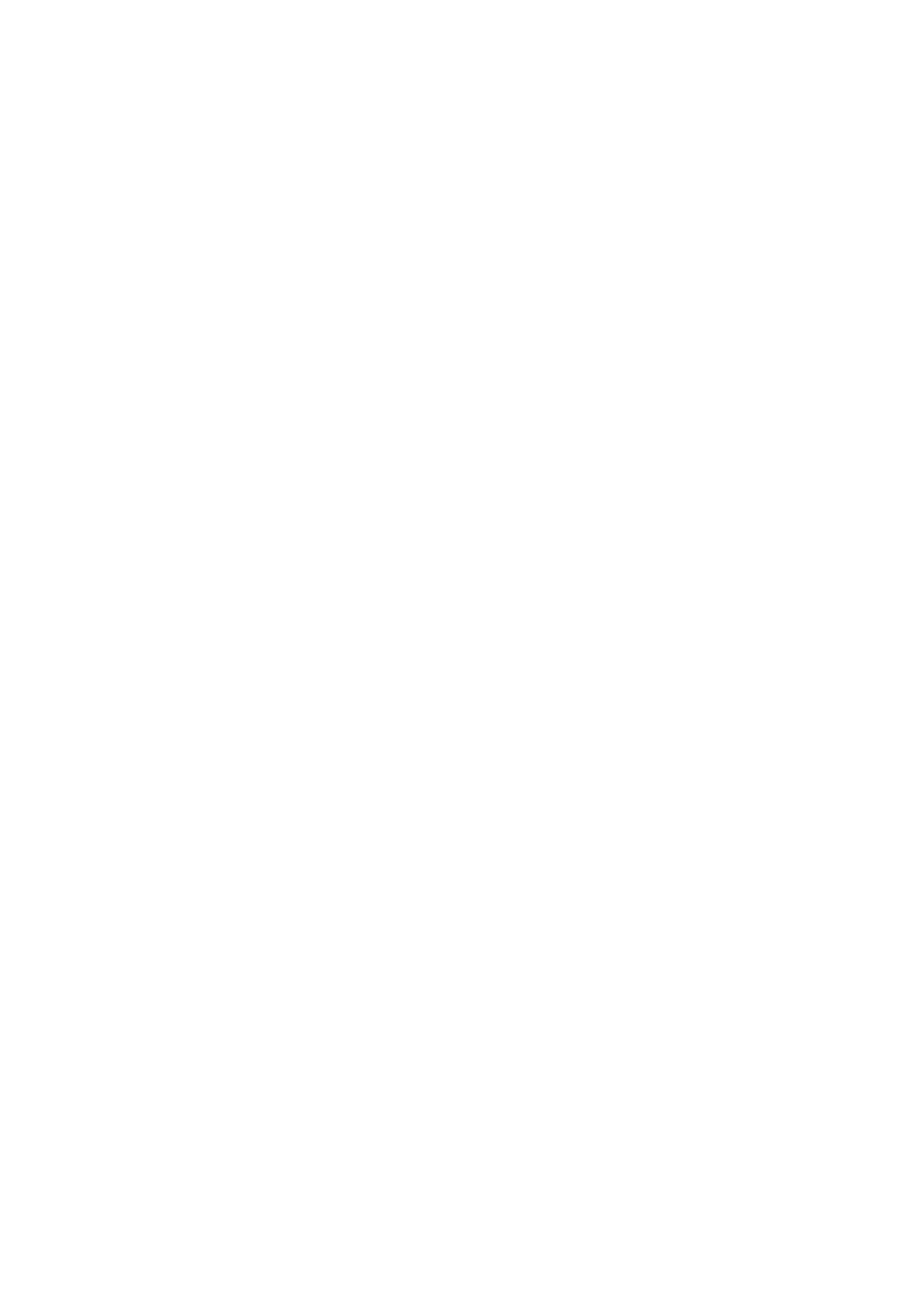
новелла михаила Булатова
Молния в бутылке
Любовь и ненависть — две стороны одной монеты, и порой любовь становится самым жестоким палачом.
«…А у любви есть тот, кто попал под поезд и тот,
Кто забрызган грязью из-под колес"
(Аля Кудряшова)
«И, значит, темная вина, лежащая на мне
Лишь тень, мелькнувшая на миг,
в счастливом детском сне…"
(Сергей Калугин, Das Boot)
Кто забрызган грязью из-под колес"
(Аля Кудряшова)
«И, значит, темная вина, лежащая на мне
Лишь тень, мелькнувшая на миг,
в счастливом детском сне…"
(Сергей Калугин, Das Boot)
Глава 1
Сторож мёртвого поезда
Знаешь, как это бывает — два человека вместе. А потом случается что-то, похожее на беззвучный выстрел, и они больше не любят друг друга. Просыпаются однажды в постели, и смотрят друг на друга с удивлением, — говорит мне Ольга, заплетая косу. Я улыбаюсь, чувствуя ее тонкие длинные пальцы в своих волосах.
— я верю тебе, — отвечаю я ей, — но мне не хочется узнать все это на собственной шкуре.
Мы некоторое время молчим. За окном наступают сумерки, такие густые и терпкие, что мне невольно начинает щемить сердце, будто я заглянул в пустой колодец. Пахнет приближающейся грозой.
— Мне тоже, — отвечает Ольга, — совсем этого не хочется. Она улыбается той усталой улыбкой, за которую я люблю ее больше всего, и мне хочется сорвать этот бутон с ее губ, но она отстраняется.
— Вымоешь меня? — спрашивает она, и я расслабляюсь. Мгновенно, как-то сразу, будто и не чувствовал только что в груди натянутой пружины.
— Конечно, — говорю я. Мы наполняем ванну, добавляем в воду масло грейпфрута, льем под струю шампунь, чтобы получились душистые облака пены. Когда Ольга раздевается, я всегда отворачиваюсь. Так уж между нами заведено.
Я приношу из гостиной в ванную комнату кресло с подлокотниками в виде львиных голов. Ольга нежится в горячей воде, щеки ее раскраснелись, и из белой пены, как заблудшие овечки из тумана, время от времени показываются ее груди. Я достаю длинную буковую трубку, и не спеша набиваю ее душистым вишневым табаком. Ольга вытягивает из пены то одну ножку, то другую. По ее тугим икрам стекает пена. Когда я раскуриваю трубку, Ольга просит:
— И мне, и мне тоже! — и курит ее из моих рук, жадно припадая к мундштуку горячими губами. Я слышу, как на улице уже вовсю хлещет дождь. Аккуратно вытряхиваю пепел в раковину, и кладу трубку на ее край.
— Давай-ка сюда свою спину, — говорю я Ольге, и беру жесткую мочалку. Она садится в ванной, и целомудренно прикрывает ладонями крупные коричневые соски. Впрочем, делает это она едва-едва, и я вижу, как взволнованно ходят ее ребра под белой кожей.
Одной рукой я перехватываю у затылка длинные тяжелые волосы кроваво-медного цвета, а другой принимаюсь тереть спину мочалкой — неспешно и сильно, оставляя на ее коже широкие красные полосы. Ольга стонет, выгибает шею, закрывает от удовольствия глаза.
— Вставай, — говорю я ей, — я хочу вымыть тебя целиком. Ольга смеется:
— Конечно! — говорит она, и поднимается из воды, бесстыдная и нагая, прекрасная и невесомая, как облако сахарной ваты. В этот миг над нами со звоном лопается лампочка, и во всем доме гаснет электричество.
— Ой! — кричит Ольга, и, улучив момент, оборачивается ко мне, чтобы поцеловать. Она едва касается своими губами моих. Ее дыхание обжигает, как мартеновская печь.
Мы некоторое время стоим, потрясенные и немного испуганные, а потом начинаем неистово хохотать, и я продолжаю мыть Ольгу на ощупь, прижимая ее разогретое тело к прохладному кафелю.
— Я… я… я уеду. Завтра, — прерывисто дыша, говорит мне Ольга. Быть может, навсегда. Пообещай, что не будешь искать меня. Пожалуйста, это очень важно. Мы зашли далеко, нам нужно прекратить. Ты знаешь, и я знаю.
Я не понимаю, о чем она говорит. Смысл ее слов доходит до меня не сразу. Хочу сказать ей «почему ты не предупредила меня?». Сказать ей: «ты хоть понимаешь, что делаешь?». Сказать еще: «За что, за что ты так со мной, за что?». Кто-то другой говорит моим языком:
— Будет гроза. Могу я остаться у тебя? Ольга гладит меня по щеке. Мне нравятся ее руки — когда она поправляет челку, когда лепит в мастерской, когда расстегивает верхнюю пуговицу платья, ее пальцы танцуют. Я ни у кого не видел таких красивых рук.
— Да, отвечает она коротко, будто прыгает в воду с высокой скалы, — но тебе придется рано уйти. До рассвета. Хорошо?
Слышны раскаты грома. Далекие и глухие, будто резиновой колотушкой бьют о дно железной бочки.
— Хорошо, — отвечаю я эхом. Я едва сдерживаюсь, чтобы не схватить ее за шею. Ольга смотрит на меня. Она все понимает. Она всегда все знает обо мне. Она говорит:
— Расстели постель, и приоткрой окно. Дождь должен рассказать нам сны.
В спальне пахнет озоном, и тюлевая штора колышется, как призрак. Я зажигаю индийские благовония, и чувствую внутри какую-то обреченную усталость. Но когда Ольга ложится рядом, я забываю обо всем — она прижимается ко мне, и я чувствую, как ее сердце стучит повсюду. Стучит, как часы, которые отмеряют наше последнее с ней время.
— Спокойной ночи, — говорю я ей, и она что-то сонно бормочет, утыкаясь влажными губами мне в шею. Я чувствую, как пахнет от ее кожи яблоками, и засыпаю.
… И просыпаюсь перед рассветом, застигнутый страхом, будто скорым поездом. Я лежу раздавленный, переломанный и смятый в объятиях Ольги, и понимаю, что должен подняться и уйти.
«Знаешь, как это бывает, два человека вместе. А потом случается что-то, похожее на беззвучный выстрел, и они больше не любят друг друга. Просыпаются однажды в постели, и смотрят друг на друга с удивлением», — вспоминаю я ее слова.
Словно вор, я одеваюсь и выскакиваю в холодный предрассветный сумрак. Озноб прошибает меня сразу, по всему телу, и я быстро шагаю прочь, засунув руки глубоко в карманы. Зуб на зуб не попадает. Кошмарно хочется закурить. И только прошагав три квартала, я понимаю, что оставил у Ольги свою трубку. «Ну и черт с ней, с трубкой. Черт с ним, со всем на свете», — думаю я. Пытаюсь в деталях припомнить все — каждое прикосновение, каждый запах и взгляд, засушить их гербарием между страниц памяти, которые буду перелистывать снова и снова.
***
— Сегодня сладкий день, — говорит Луиза, вытирая тыльной стороной ладони рот. Я ласково глажу ее по голове.
— Принести тебе воды? — спрашиваю я, и она повторяет:
— Сладкий день принес хорошие новости. У нас будет ребенок.
Я мешкаю буквально секунду, ровно столько, чтобы Лу успела бросить на меня встревоженный взгляд, а потом целую ее в соленые мокрые губы, и валю на смятые простыни. И мы продолжаем.
… С тех пор, как я последний раз видел Ольгу в ту злополучную ночь, прошло пять лет, и я не получил от нее ни одной весточки. Первое время она являлась ко мне во снах каждую ночь, затем — раз в неделю, а потом — раз в месяц. Спустя годы я стал сомневаться в том, что Ольга действительно существовала. Мои руки стали больше и сильнее, плечи расцвели узорами татуировок, а коса стала на пол-локтя длиннее. Я писал портреты, но кто бы мне ни позировал, в конце концов с холста на меня смотрели глаза Ольги, ее большие зеленые глаза с яркими солнечными сполохами на самом дне.
Вокруг меня было немало женщин, и я кормил их со своих щедрых рук, как кормят белок в лесу. Наконец, я выбрал одну, по имени Луиза, и назвал ее своей женой, но от этого я не стал менее одиноким. Прошлая жизнь вспоминалась мне, как книга, прочитанная в детстве.
Пока я писал, одержимый формой и цветом, я не помнил ни о чем другом, кроме формы и цвета, и был счастлив. Наконец, я решил, что смысл жизни — это найти такое занятие, которое будет достаточно долго отвлекать от боли, свившей гнездо в середине груди.
— Как мы назовем ребенка? — спрашивает меня Лу, широко зевая. За окнами светлеет небо.
— Ну, все же зависит от того, девочка или мальчик…
— Не будь занудой, есть же универсальные имена! Например, Женя. Или Саша. Или…
… Но я не слушаю. Я уже сплю, и мне снится белая птица, сидящая на подоконнике. Птица стучит клювом в стекло.
Когда я просыпаюсь, Луизы уже нет рядом. На подушке записка «На ужин приготовлю мясо в виноградных листьях. Подумай над именем!». Я работаю по заказам, потому порой могу позволить себе поваляться подольше в постели с утра. Встаю, потягиваюсь, распахиваю окно, в которое тут же врывается весенний ветер.
— Назови мне имя, — прошу я ветер. И он, бродяга, что-то шепчет мне в ухо, но я никак не могу разобрать его наречия.
… Когда спускался, заметил в почтовом ящике белый уголок. Сердце вдруг стало биться часто-часто.
В письме была только одна строчка, которую я перечитал сотню раз.
«Мне не с кем раскурить буковой трубки. Приезжай, твоя О»
"Приезжай. Твоя. О. Твоя…"
Моя. Навеки.
— я верю тебе, — отвечаю я ей, — но мне не хочется узнать все это на собственной шкуре.
Мы некоторое время молчим. За окном наступают сумерки, такие густые и терпкие, что мне невольно начинает щемить сердце, будто я заглянул в пустой колодец. Пахнет приближающейся грозой.
— Мне тоже, — отвечает Ольга, — совсем этого не хочется. Она улыбается той усталой улыбкой, за которую я люблю ее больше всего, и мне хочется сорвать этот бутон с ее губ, но она отстраняется.
— Вымоешь меня? — спрашивает она, и я расслабляюсь. Мгновенно, как-то сразу, будто и не чувствовал только что в груди натянутой пружины.
— Конечно, — говорю я. Мы наполняем ванну, добавляем в воду масло грейпфрута, льем под струю шампунь, чтобы получились душистые облака пены. Когда Ольга раздевается, я всегда отворачиваюсь. Так уж между нами заведено.
Я приношу из гостиной в ванную комнату кресло с подлокотниками в виде львиных голов. Ольга нежится в горячей воде, щеки ее раскраснелись, и из белой пены, как заблудшие овечки из тумана, время от времени показываются ее груди. Я достаю длинную буковую трубку, и не спеша набиваю ее душистым вишневым табаком. Ольга вытягивает из пены то одну ножку, то другую. По ее тугим икрам стекает пена. Когда я раскуриваю трубку, Ольга просит:
— И мне, и мне тоже! — и курит ее из моих рук, жадно припадая к мундштуку горячими губами. Я слышу, как на улице уже вовсю хлещет дождь. Аккуратно вытряхиваю пепел в раковину, и кладу трубку на ее край.
— Давай-ка сюда свою спину, — говорю я Ольге, и беру жесткую мочалку. Она садится в ванной, и целомудренно прикрывает ладонями крупные коричневые соски. Впрочем, делает это она едва-едва, и я вижу, как взволнованно ходят ее ребра под белой кожей.
Одной рукой я перехватываю у затылка длинные тяжелые волосы кроваво-медного цвета, а другой принимаюсь тереть спину мочалкой — неспешно и сильно, оставляя на ее коже широкие красные полосы. Ольга стонет, выгибает шею, закрывает от удовольствия глаза.
— Вставай, — говорю я ей, — я хочу вымыть тебя целиком. Ольга смеется:
— Конечно! — говорит она, и поднимается из воды, бесстыдная и нагая, прекрасная и невесомая, как облако сахарной ваты. В этот миг над нами со звоном лопается лампочка, и во всем доме гаснет электричество.
— Ой! — кричит Ольга, и, улучив момент, оборачивается ко мне, чтобы поцеловать. Она едва касается своими губами моих. Ее дыхание обжигает, как мартеновская печь.
Мы некоторое время стоим, потрясенные и немного испуганные, а потом начинаем неистово хохотать, и я продолжаю мыть Ольгу на ощупь, прижимая ее разогретое тело к прохладному кафелю.
— Я… я… я уеду. Завтра, — прерывисто дыша, говорит мне Ольга. Быть может, навсегда. Пообещай, что не будешь искать меня. Пожалуйста, это очень важно. Мы зашли далеко, нам нужно прекратить. Ты знаешь, и я знаю.
Я не понимаю, о чем она говорит. Смысл ее слов доходит до меня не сразу. Хочу сказать ей «почему ты не предупредила меня?». Сказать ей: «ты хоть понимаешь, что делаешь?». Сказать еще: «За что, за что ты так со мной, за что?». Кто-то другой говорит моим языком:
— Будет гроза. Могу я остаться у тебя? Ольга гладит меня по щеке. Мне нравятся ее руки — когда она поправляет челку, когда лепит в мастерской, когда расстегивает верхнюю пуговицу платья, ее пальцы танцуют. Я ни у кого не видел таких красивых рук.
— Да, отвечает она коротко, будто прыгает в воду с высокой скалы, — но тебе придется рано уйти. До рассвета. Хорошо?
Слышны раскаты грома. Далекие и глухие, будто резиновой колотушкой бьют о дно железной бочки.
— Хорошо, — отвечаю я эхом. Я едва сдерживаюсь, чтобы не схватить ее за шею. Ольга смотрит на меня. Она все понимает. Она всегда все знает обо мне. Она говорит:
— Расстели постель, и приоткрой окно. Дождь должен рассказать нам сны.
В спальне пахнет озоном, и тюлевая штора колышется, как призрак. Я зажигаю индийские благовония, и чувствую внутри какую-то обреченную усталость. Но когда Ольга ложится рядом, я забываю обо всем — она прижимается ко мне, и я чувствую, как ее сердце стучит повсюду. Стучит, как часы, которые отмеряют наше последнее с ней время.
— Спокойной ночи, — говорю я ей, и она что-то сонно бормочет, утыкаясь влажными губами мне в шею. Я чувствую, как пахнет от ее кожи яблоками, и засыпаю.
… И просыпаюсь перед рассветом, застигнутый страхом, будто скорым поездом. Я лежу раздавленный, переломанный и смятый в объятиях Ольги, и понимаю, что должен подняться и уйти.
«Знаешь, как это бывает, два человека вместе. А потом случается что-то, похожее на беззвучный выстрел, и они больше не любят друг друга. Просыпаются однажды в постели, и смотрят друг на друга с удивлением», — вспоминаю я ее слова.
Словно вор, я одеваюсь и выскакиваю в холодный предрассветный сумрак. Озноб прошибает меня сразу, по всему телу, и я быстро шагаю прочь, засунув руки глубоко в карманы. Зуб на зуб не попадает. Кошмарно хочется закурить. И только прошагав три квартала, я понимаю, что оставил у Ольги свою трубку. «Ну и черт с ней, с трубкой. Черт с ним, со всем на свете», — думаю я. Пытаюсь в деталях припомнить все — каждое прикосновение, каждый запах и взгляд, засушить их гербарием между страниц памяти, которые буду перелистывать снова и снова.
***
— Сегодня сладкий день, — говорит Луиза, вытирая тыльной стороной ладони рот. Я ласково глажу ее по голове.
— Принести тебе воды? — спрашиваю я, и она повторяет:
— Сладкий день принес хорошие новости. У нас будет ребенок.
Я мешкаю буквально секунду, ровно столько, чтобы Лу успела бросить на меня встревоженный взгляд, а потом целую ее в соленые мокрые губы, и валю на смятые простыни. И мы продолжаем.
… С тех пор, как я последний раз видел Ольгу в ту злополучную ночь, прошло пять лет, и я не получил от нее ни одной весточки. Первое время она являлась ко мне во снах каждую ночь, затем — раз в неделю, а потом — раз в месяц. Спустя годы я стал сомневаться в том, что Ольга действительно существовала. Мои руки стали больше и сильнее, плечи расцвели узорами татуировок, а коса стала на пол-локтя длиннее. Я писал портреты, но кто бы мне ни позировал, в конце концов с холста на меня смотрели глаза Ольги, ее большие зеленые глаза с яркими солнечными сполохами на самом дне.
Вокруг меня было немало женщин, и я кормил их со своих щедрых рук, как кормят белок в лесу. Наконец, я выбрал одну, по имени Луиза, и назвал ее своей женой, но от этого я не стал менее одиноким. Прошлая жизнь вспоминалась мне, как книга, прочитанная в детстве.
Пока я писал, одержимый формой и цветом, я не помнил ни о чем другом, кроме формы и цвета, и был счастлив. Наконец, я решил, что смысл жизни — это найти такое занятие, которое будет достаточно долго отвлекать от боли, свившей гнездо в середине груди.
— Как мы назовем ребенка? — спрашивает меня Лу, широко зевая. За окнами светлеет небо.
— Ну, все же зависит от того, девочка или мальчик…
— Не будь занудой, есть же универсальные имена! Например, Женя. Или Саша. Или…
… Но я не слушаю. Я уже сплю, и мне снится белая птица, сидящая на подоконнике. Птица стучит клювом в стекло.
Когда я просыпаюсь, Луизы уже нет рядом. На подушке записка «На ужин приготовлю мясо в виноградных листьях. Подумай над именем!». Я работаю по заказам, потому порой могу позволить себе поваляться подольше в постели с утра. Встаю, потягиваюсь, распахиваю окно, в которое тут же врывается весенний ветер.
— Назови мне имя, — прошу я ветер. И он, бродяга, что-то шепчет мне в ухо, но я никак не могу разобрать его наречия.
… Когда спускался, заметил в почтовом ящике белый уголок. Сердце вдруг стало биться часто-часто.
В письме была только одна строчка, которую я перечитал сотню раз.
«Мне не с кем раскурить буковой трубки. Приезжай, твоя О»
"Приезжай. Твоя. О. Твоя…"
Моя. Навеки.
Глава 1
Сторож мёртвого поезда
Я хотел бы скомкать, порвать это письмо, эту кость, брошенную умирающей собаке, но вместо этого держал его в руках, как величайшее сокровище. На конверте был указан приморский город, в котором мы были вместе с Ольгой, когда я был еще ребенком. Три дня я сопротивлялся яду, который проникал в меня все глубже. Я не мог спать, потому что в голове шумел прибой. «Никуда ты не поедешь», — говорил я себе, — «У тебя жена, которая ждет ребенка, и целый ворох неоконченных дел». На третий день я не выдержал, и купил билеты на самолет.
— Всего на пару дней, — сказал я Лу. Мне надо проветрить голову, иначе сойду с ума с этими заказами.
— Возьмешь меня с собой? — начала упрашивать жена, но я только покачал головой. Сказал, что хочу увидеть близкого человека, с которым вместе вырос.
— Ну и проваливай. Бери этюдник, краски, и выметайся. И можешь не торопиться обратно, слышишь? Отдохни как следует, ты же устал. Ты же творческий человек.
… Позвонила перед самым самолетом. Голос был далекий, будто говорила со дна океана:
— Олег! Слышишь, Олег! Прости меня, дуру. Это все гормоны. Ты береги себя там, пожалуйста. У меня плохое предчувствие. Возвращайся скорее.
Мое сердце предательски екнуло, и сморщилось, как гнилая картофелина. И все же, где-то на самом дне, разгоралось преступное, страстное желание увидеть снова Ольгу.
… 234 ступени. Я открываю глаза, и щурюсь от слепящего солнца. Вокруг гомонят люди, ветер треплет тент, официантка с прелестными круглыми плечами снует между столиками. Я потягиваю темное пиво, и сжимаю в руках бумажку с надписью «234 ступени». Мне нравятся такие фокусы — закрываешь глаза в самолете, и вот — осознаешь себя уже в другом городе, за столиком кафе. Разумеется, едва приехав, я бросился по указанному в письме адресу. Мне хотелось выждать, побродить по городу, сделать несколько зарисовок. Но адрес, указанный в письме, тянул меня, как рыбак тянет к себе рыбу, которая уже глубоко проглотила наживку. Это оказался небольшой домик, какие обычно сдают туристам. Хозяин сказал мне, что девушка съехала дней пять назад, и просила его передать записку мужчине, если он будет искать ее. В записке было написано «234 ступени». И ничего больше.
Я приглядывался к людям, которые шли мимо по улице, в тщетной надежде среди обгоревших лиц пляжников узнать Ольгу. И у меня не было никаких идей по поводу того, что могут значить эти «234 ступени». Наконец, я расплатился, и пошел считать все ступени на всех лестницах в городе. Я был на набережной, в летнем амфитеатре, и всюду тщательно пересчитывал ступени. К полудню я уже ощущал себя последним дураком. В конец вымотавшись, я зашел в магазин, чтобы купить вишневого табака. Едва я вышел, краем уха услышал беседу двух девушек. Одна говорила другой: «…И обязательно, поднимаясь, надо пересчитать ступени, иначе желание не сбудется!». Догнав их, я спросил, о чем идет речь.
— Скала желаний! — выпалила та, что была пониже ростом, с веснушками по всему лицу.
— Да не скала, а алтарь! И ступени наверх надо пересчитать обязательно, — дополнила ее подруга.
Как оказалось, речь идет о местной достопримечательности. Как я мог забыть об этом магните для туристов. Смутно припомнил, что в детстве вроде бы сам считал эти ступени.
… Скала находилась в метрах пятидесяти от берега. По легенде, чтобы заветное желание сбылось, надо на закате добраться до нее вплавь, и, поднимаясь, пересчитать ступени, а на верхней площадке зажечь свечу. Впрочем, плыть до скалы самому было вовсе не обязательно, поблизости кружили суденышки, хозяева которых были готовы за деньги отвезти туристов, а заодно провести экскурсию по бухтам и заливам.
День клонился к вечеру, и я поспешил к местному «алтарю желаний», про себя усмехаясь и гадая, какую жертву придется принести мне. Я с детства с опаской относился к воде. Мне всегда казалось, что стоит мне оказаться в море, как оно тут же положит меня на свой соленый язык и прижмет к нёбу. Поэтому я арендовал лодку. Когда я, запыхавшись, поднялся на смотровую площадку, солнце уже закрыло огненный глаз. Ступеней было ровно 234. Но я все еще не понимал, что это означает. Свечи с собой у меня не нашлось, зато на телефоне был фонарик. Я включил его, и осветил душистый мрак южной ночи. Вдалеке, как-то по приятельски, мигнул маяк, и я счел это добрым знаком. Камни были испещрены надписями. Фонарик выхватывал их из темноты: «Даша + Света = любовь», «Помни имя свое», «Горгона ждет под Деревом желаний: 83 465−04−32».
Я едва не выронил телефон — когда-то, в шутку, я называл Ольгу медузой, и она, конечно, жутко злилась. Цифры были похожи на номер. Сердце принялось трепыхаться, как пойманный воробей, и холодными дубовыми пальцами я набрал цифры на дисплее. Мысли метались, как искры над побеспокоенной головней, и больше всего я боялся услышать, что номер не обслуживается. Или, что еще хуже, встретить на другом конце чужой заспанный голос.
— Да…, — хрипловатый голос, будто под ногой хрустнула елочная игрушка. Я узнал его, сразу, моментально, будто и не было этих безумных, отчаянных и голодных лет, — Да?
— Здравствуй, — только и смог вымолвить я, испугавшись, что вот сейчас она положит трубку, быстро проговорил, — Здравствуй, Ольга. Я приехал. Я здесь.
— Ты… пришел, — я представил, как она села в кровати. Я представил себе ее тело, ее родинку на щеке. Интересно, изменилась ли она за эти пять лет?
— Где мы можем увидеться? И когда? — я уже стал спокойнее, увереннее. Я представлял себе ее тонкие пальцы, которые были похожи на клавиши фортепиано в моих смуглых руках. Она зевнула, и сказала уже почти весело:
— Через полчаса, на набережной. Там есть кафе, оно в виде большой кофейной мельницы, не перепутаешь. Если подойдешь раньше, возьми мне двойной эспрессо. Сегодня нам долго не спать.
Я завершил звонок. В моей голове словно шумел поезд, и каждое его колесо повторяло и повторяло: «Оль-га, Оль-га».
— Всего на пару дней, — сказал я Лу. Мне надо проветрить голову, иначе сойду с ума с этими заказами.
— Возьмешь меня с собой? — начала упрашивать жена, но я только покачал головой. Сказал, что хочу увидеть близкого человека, с которым вместе вырос.
— Ну и проваливай. Бери этюдник, краски, и выметайся. И можешь не торопиться обратно, слышишь? Отдохни как следует, ты же устал. Ты же творческий человек.
… Позвонила перед самым самолетом. Голос был далекий, будто говорила со дна океана:
— Олег! Слышишь, Олег! Прости меня, дуру. Это все гормоны. Ты береги себя там, пожалуйста. У меня плохое предчувствие. Возвращайся скорее.
Мое сердце предательски екнуло, и сморщилось, как гнилая картофелина. И все же, где-то на самом дне, разгоралось преступное, страстное желание увидеть снова Ольгу.
… 234 ступени. Я открываю глаза, и щурюсь от слепящего солнца. Вокруг гомонят люди, ветер треплет тент, официантка с прелестными круглыми плечами снует между столиками. Я потягиваю темное пиво, и сжимаю в руках бумажку с надписью «234 ступени». Мне нравятся такие фокусы — закрываешь глаза в самолете, и вот — осознаешь себя уже в другом городе, за столиком кафе. Разумеется, едва приехав, я бросился по указанному в письме адресу. Мне хотелось выждать, побродить по городу, сделать несколько зарисовок. Но адрес, указанный в письме, тянул меня, как рыбак тянет к себе рыбу, которая уже глубоко проглотила наживку. Это оказался небольшой домик, какие обычно сдают туристам. Хозяин сказал мне, что девушка съехала дней пять назад, и просила его передать записку мужчине, если он будет искать ее. В записке было написано «234 ступени». И ничего больше.
Я приглядывался к людям, которые шли мимо по улице, в тщетной надежде среди обгоревших лиц пляжников узнать Ольгу. И у меня не было никаких идей по поводу того, что могут значить эти «234 ступени». Наконец, я расплатился, и пошел считать все ступени на всех лестницах в городе. Я был на набережной, в летнем амфитеатре, и всюду тщательно пересчитывал ступени. К полудню я уже ощущал себя последним дураком. В конец вымотавшись, я зашел в магазин, чтобы купить вишневого табака. Едва я вышел, краем уха услышал беседу двух девушек. Одна говорила другой: «…И обязательно, поднимаясь, надо пересчитать ступени, иначе желание не сбудется!». Догнав их, я спросил, о чем идет речь.
— Скала желаний! — выпалила та, что была пониже ростом, с веснушками по всему лицу.
— Да не скала, а алтарь! И ступени наверх надо пересчитать обязательно, — дополнила ее подруга.
Как оказалось, речь идет о местной достопримечательности. Как я мог забыть об этом магните для туристов. Смутно припомнил, что в детстве вроде бы сам считал эти ступени.
… Скала находилась в метрах пятидесяти от берега. По легенде, чтобы заветное желание сбылось, надо на закате добраться до нее вплавь, и, поднимаясь, пересчитать ступени, а на верхней площадке зажечь свечу. Впрочем, плыть до скалы самому было вовсе не обязательно, поблизости кружили суденышки, хозяева которых были готовы за деньги отвезти туристов, а заодно провести экскурсию по бухтам и заливам.
День клонился к вечеру, и я поспешил к местному «алтарю желаний», про себя усмехаясь и гадая, какую жертву придется принести мне. Я с детства с опаской относился к воде. Мне всегда казалось, что стоит мне оказаться в море, как оно тут же положит меня на свой соленый язык и прижмет к нёбу. Поэтому я арендовал лодку. Когда я, запыхавшись, поднялся на смотровую площадку, солнце уже закрыло огненный глаз. Ступеней было ровно 234. Но я все еще не понимал, что это означает. Свечи с собой у меня не нашлось, зато на телефоне был фонарик. Я включил его, и осветил душистый мрак южной ночи. Вдалеке, как-то по приятельски, мигнул маяк, и я счел это добрым знаком. Камни были испещрены надписями. Фонарик выхватывал их из темноты: «Даша + Света = любовь», «Помни имя свое», «Горгона ждет под Деревом желаний: 83 465−04−32».
Я едва не выронил телефон — когда-то, в шутку, я называл Ольгу медузой, и она, конечно, жутко злилась. Цифры были похожи на номер. Сердце принялось трепыхаться, как пойманный воробей, и холодными дубовыми пальцами я набрал цифры на дисплее. Мысли метались, как искры над побеспокоенной головней, и больше всего я боялся услышать, что номер не обслуживается. Или, что еще хуже, встретить на другом конце чужой заспанный голос.
— Да…, — хрипловатый голос, будто под ногой хрустнула елочная игрушка. Я узнал его, сразу, моментально, будто и не было этих безумных, отчаянных и голодных лет, — Да?
— Здравствуй, — только и смог вымолвить я, испугавшись, что вот сейчас она положит трубку, быстро проговорил, — Здравствуй, Ольга. Я приехал. Я здесь.
— Ты… пришел, — я представил, как она села в кровати. Я представил себе ее тело, ее родинку на щеке. Интересно, изменилась ли она за эти пять лет?
— Где мы можем увидеться? И когда? — я уже стал спокойнее, увереннее. Я представлял себе ее тонкие пальцы, которые были похожи на клавиши фортепиано в моих смуглых руках. Она зевнула, и сказала уже почти весело:
— Через полчаса, на набережной. Там есть кафе, оно в виде большой кофейной мельницы, не перепутаешь. Если подойдешь раньше, возьми мне двойной эспрессо. Сегодня нам долго не спать.
Я завершил звонок. В моей голове словно шумел поезд, и каждое его колесо повторяло и повторяло: «Оль-га, Оль-га».
Глава 1
Сторож мёртвого поезда
Когда я спустился вниз, перепрыгивая через две ступени и поминутно рискуя подвернуть ногу и покатиться по крутой лестнице, рыбак ждал меня у скалы. Он лениво курил папиросу, и, увидев меня, кивком указал на место для пассажира. Я сел в лодку, сунул ему пятьсот рублей, и подумал, что этот седой немногословный мужчина чем-то напоминает мне Харона. В груди у меня томилось дурное предчувствие, словно эта встреча, которую я ждал так неистово, принесет мне много неприятностей.
… Кафе, о котором говорила Ольга, я нашел без труда, взял двойной эспрессо, два сэндвича и мятный чай. Я сел за небольшой столик и стал смотреть на бухту. Внутри головы было пусто и тихо, как в католическом храме в будний день. Отдавшись этой тишине, я закрыл глаза.
— Кого ловил ты вечером во ржи*? — узкие горячие ладони легли мне на лицо.
Я улыбнулся, будто камень рухнул с сердца и разбился, а за спиной вновь выросли сильные молодые крылья. Я улыбнулся всеми своими волчьими зубами.
— Одну негодницу, которая потерялась пять лет назад, — ответил я, потом открыл глаза и развернулся. Я увидел ее именно такой, какой запомнил — спутанная копна кудрей, насмешливый пухлый рот, глаза — как две бритвы. Я обнял ее, со всей страстью и бережностью, точно она могла рассыпаться в моих грубых руках. Ольга в два глотка, обжигаясь, выпила кофе и схватила меня за руку:
— Пойдем!
… И мы ушли, оставив нетронутыми сандвичи и чай. Она вела меня по набережной в самый ее конец, куда едва доносилась музыка, и плясали у пирса рыбацкие лодки. Остановившись, она прильнула ко мне, точно прося защиты, и я гладил ее щеки и шею. Стараясь унять дрожь в пальцах, я расстегнул две пуговицы на ее рубашке, и осторожно ощупал ключицы. Откуда-то в небо со свистом ушла и разорвалась петарда, а следом еще одна. Начался феерверк. Ольга расстегнула еще две пуговицы, взяла мои руки свои, и я почувствовал ее упругие тяжелые груди.
— С тех пор, как мы виделись в последний раз, петля на твоей лодыжке стала туже, — шепнула она мне в ухо, — «висельник**».
Я с трудом разобрал ее слова сквозь шум феерверка. Вдруг она озорно оглянулась, и я увидел в отдалении какого-то гуляку, который шел в нашем направлении. Мы побежали в ночь, смеясь, как дети. И мне было упоительно сладко дышать. Я забыл о Луизе, о ребенке, и даже имя свое мог вспомнить с трудом. Так был счастлив.
— Как давно ты здесь? — спросил я ее наконец, и Ольга ответила:
— Неделю. Сняла сначала комнату в Нижнем городе, но потом решила перебраться повыше — чем дальше от набережной, тем дешевле.
— Я пересчитал почти все чертовы ступени в городе, — ласково сказал я.
— Как ты мог забыть про лестницу на скале? Неужели совсем повзрослел? — с упреком сказала Ольга.
Но я все же нашел ее, все же добрался. И это до сих пор казалось мне абсолютно невозможным. Жить было так больно, будто с меня содрали всю кожу, и каждое дуновение я ловил оголенным нервом. Я шептал ей на ухо «Ольга, Ольга, Ольга. Я безумный пастух облаков на просторах вселенной…». Потом, конечно же, мы много пили. Останавливались у одного навеса, опрокидывали несколько стаканов горячего вина, и шли дальше. Поэтому, когда мы добрались до бунгало в верхнем городе, то оба едва стояли на ногах.
— Я люблю тебя, как же я люблю тебя, — говорил ей я.
— Пьяная ты свинья, — ласково отвечала Ольга.
А потом я уже ничего не помнил. Мы рухнули в постель. Переплелись, как змеи, и с наслаждением вонзив друг в друга зубы, уснули.
… Проснулся от резкого «вжих-вжих» и запаха кофе. Ощупал нёбо языком. Во рту было сухо, но голова оставалась светлой. Перевернулся и обнаружил, что Ольги нет рядом. Зевая, прошел на мансарду, где была расположена кухонька, и стал свидетелем потрясающей картины.
Ольга в одних трусиках сидела на табурете, зажав в уголке рта самокрутку, и методично затачивала большой кухонный нож. «Вжих-вжих», — говорил метал. На плите дымилась турка со свежесваренным кофе, и я протянул к ней руку. Стоило мне это сделать, и Ольга тут же отложила в сторону точильный камень и направила в мою сторону нож:
— Но-но, не так быстро. Этот кофе я варила для себя. Хочешь, чтобы я поделилась — попроси.
Я заглянул в ее смеющиеся зеленые глаза, и понял — игра началась.
— Что мне нужно сделать?
— Закрой глаза и встань на колени.
— Не слишком ли смело? Ты всерьез думаешь, что я это сделаю?
— Сделаешь. Кофе с остатками гавайского рома.
— Который вчера вечером пили? Убедила.
Я поднял руки в знак полной капитуляции, и встал на колени. Ольга зашла сзади. Одной рукой она взяла меня за косу, другой прижала лезвие ножа к моему горлу. Лезвие чертовски острое, наточила она его на славу. Мои ладони похолодели. Я понимаю, что за эти пять лет Ольга могла окончательно спятить.
— Испугался, барашек?
Я стараюсь дышать ровно.
— Нет, мне не страшно. Хочешь взять мою жизнь — бери.
— Как ее зовут?
— Кого?
— Не валяй дурака. Ту, которую ты трахаешь.
Нож крепко прижимается в коже. Лезвие холодное. Будет порез. Я думаю, что Ольга все это могла затеять с единственной целью — прикончить меня.
— Имя! Назови ее имя!
— Луиза. Ее зовут Луиза. Прекрати этот спектакль, убери нож!
Ольга быстрым движением натянула косу, и отхватила ее ножом у самого основания. Как удар молнии. Вспышка света в глазах. Я вырвался. Передо мной стояла смеющаяся голая Ольга, с ножом в правой руке и моей косой в левой.
— За что?
— Потому что пришла пора попрощаться с прошлым. Все, что было, не имеет значения. Иди ко мне.
Ольга взяла мое лицо и прижала к пышной груди. Я все еще стою на коленях. Ей приходится нагнуться.
— Можешь облизать соски. Если хочешь, конечно.
— Ну и сука же ты, — сказал я с невольным восхищением.
… Кафе, о котором говорила Ольга, я нашел без труда, взял двойной эспрессо, два сэндвича и мятный чай. Я сел за небольшой столик и стал смотреть на бухту. Внутри головы было пусто и тихо, как в католическом храме в будний день. Отдавшись этой тишине, я закрыл глаза.
— Кого ловил ты вечером во ржи*? — узкие горячие ладони легли мне на лицо.
Я улыбнулся, будто камень рухнул с сердца и разбился, а за спиной вновь выросли сильные молодые крылья. Я улыбнулся всеми своими волчьими зубами.
— Одну негодницу, которая потерялась пять лет назад, — ответил я, потом открыл глаза и развернулся. Я увидел ее именно такой, какой запомнил — спутанная копна кудрей, насмешливый пухлый рот, глаза — как две бритвы. Я обнял ее, со всей страстью и бережностью, точно она могла рассыпаться в моих грубых руках. Ольга в два глотка, обжигаясь, выпила кофе и схватила меня за руку:
— Пойдем!
… И мы ушли, оставив нетронутыми сандвичи и чай. Она вела меня по набережной в самый ее конец, куда едва доносилась музыка, и плясали у пирса рыбацкие лодки. Остановившись, она прильнула ко мне, точно прося защиты, и я гладил ее щеки и шею. Стараясь унять дрожь в пальцах, я расстегнул две пуговицы на ее рубашке, и осторожно ощупал ключицы. Откуда-то в небо со свистом ушла и разорвалась петарда, а следом еще одна. Начался феерверк. Ольга расстегнула еще две пуговицы, взяла мои руки свои, и я почувствовал ее упругие тяжелые груди.
— С тех пор, как мы виделись в последний раз, петля на твоей лодыжке стала туже, — шепнула она мне в ухо, — «висельник**».
Я с трудом разобрал ее слова сквозь шум феерверка. Вдруг она озорно оглянулась, и я увидел в отдалении какого-то гуляку, который шел в нашем направлении. Мы побежали в ночь, смеясь, как дети. И мне было упоительно сладко дышать. Я забыл о Луизе, о ребенке, и даже имя свое мог вспомнить с трудом. Так был счастлив.
— Как давно ты здесь? — спросил я ее наконец, и Ольга ответила:
— Неделю. Сняла сначала комнату в Нижнем городе, но потом решила перебраться повыше — чем дальше от набережной, тем дешевле.
— Я пересчитал почти все чертовы ступени в городе, — ласково сказал я.
— Как ты мог забыть про лестницу на скале? Неужели совсем повзрослел? — с упреком сказала Ольга.
Но я все же нашел ее, все же добрался. И это до сих пор казалось мне абсолютно невозможным. Жить было так больно, будто с меня содрали всю кожу, и каждое дуновение я ловил оголенным нервом. Я шептал ей на ухо «Ольга, Ольга, Ольга. Я безумный пастух облаков на просторах вселенной…». Потом, конечно же, мы много пили. Останавливались у одного навеса, опрокидывали несколько стаканов горячего вина, и шли дальше. Поэтому, когда мы добрались до бунгало в верхнем городе, то оба едва стояли на ногах.
— Я люблю тебя, как же я люблю тебя, — говорил ей я.
— Пьяная ты свинья, — ласково отвечала Ольга.
А потом я уже ничего не помнил. Мы рухнули в постель. Переплелись, как змеи, и с наслаждением вонзив друг в друга зубы, уснули.
… Проснулся от резкого «вжих-вжих» и запаха кофе. Ощупал нёбо языком. Во рту было сухо, но голова оставалась светлой. Перевернулся и обнаружил, что Ольги нет рядом. Зевая, прошел на мансарду, где была расположена кухонька, и стал свидетелем потрясающей картины.
Ольга в одних трусиках сидела на табурете, зажав в уголке рта самокрутку, и методично затачивала большой кухонный нож. «Вжих-вжих», — говорил метал. На плите дымилась турка со свежесваренным кофе, и я протянул к ней руку. Стоило мне это сделать, и Ольга тут же отложила в сторону точильный камень и направила в мою сторону нож:
— Но-но, не так быстро. Этот кофе я варила для себя. Хочешь, чтобы я поделилась — попроси.
Я заглянул в ее смеющиеся зеленые глаза, и понял — игра началась.
— Что мне нужно сделать?
— Закрой глаза и встань на колени.
— Не слишком ли смело? Ты всерьез думаешь, что я это сделаю?
— Сделаешь. Кофе с остатками гавайского рома.
— Который вчера вечером пили? Убедила.
Я поднял руки в знак полной капитуляции, и встал на колени. Ольга зашла сзади. Одной рукой она взяла меня за косу, другой прижала лезвие ножа к моему горлу. Лезвие чертовски острое, наточила она его на славу. Мои ладони похолодели. Я понимаю, что за эти пять лет Ольга могла окончательно спятить.
— Испугался, барашек?
Я стараюсь дышать ровно.
— Нет, мне не страшно. Хочешь взять мою жизнь — бери.
— Как ее зовут?
— Кого?
— Не валяй дурака. Ту, которую ты трахаешь.
Нож крепко прижимается в коже. Лезвие холодное. Будет порез. Я думаю, что Ольга все это могла затеять с единственной целью — прикончить меня.
— Имя! Назови ее имя!
— Луиза. Ее зовут Луиза. Прекрати этот спектакль, убери нож!
Ольга быстрым движением натянула косу, и отхватила ее ножом у самого основания. Как удар молнии. Вспышка света в глазах. Я вырвался. Передо мной стояла смеющаяся голая Ольга, с ножом в правой руке и моей косой в левой.
— За что?
— Потому что пришла пора попрощаться с прошлым. Все, что было, не имеет значения. Иди ко мне.
Ольга взяла мое лицо и прижала к пышной груди. Я все еще стою на коленях. Ей приходится нагнуться.
— Можешь облизать соски. Если хочешь, конечно.
— Ну и сука же ты, — сказал я с невольным восхищением.
Глава 1
Сторож мёртвого поезда
После обеда пошли на птичий рынок. Щебет, клекот, чирикание. Вокруг невероятный гомон, сотни птиц в клетках переминаются на насестах и хлопают крыльями.
— Зачем ты привел меня сюда?
— Я хочу, чтобы ты увидела, что я чувствую по отношению к тебе.
На Ольге легкая цветастая туника и стеклянные бусы. Ее спина надменно пряма, глаза скрывают солнцезащитные очки. Ольга молчит.
— Ты знаешь, бывают корабли в бутылках, а бывают молнии, заключенные в бутылку. То, что я чувствую к тебе — это молния в бутылке. Она жжет меня изнутри, и там уже все черно от копоти. Желудок, сердце, легкие — все покрылось толстым черным слоем. И если вдруг выпустить эту молнию, этого изголодавшегося джина — я боюсь, он убьет и меня, и тебя.
Ольга вздыхает:
— Ты знаешь правила. Именно поэтому я попыталась сбежать тогда.
Внутри меня закипает гнев.
— Зачем тогда все это? Могла бы просто не писать это дурацкое письмо!
Ольга молчит. Останавливается. Снимает солнцезащитные очки. Я вижу, что ее глаза на мокром месте. Ей богу, вот-вот разревется, как девочка.
— Потому что я не смогла без тебя. Каждый день о тебе вспоминала. И потом, однажды проснулась и поняла, что если не напишу тебе, то все, руки на себя наложу. Едва вызнала через общих знакомых твой новый адрес.
Я обнимаю ее. Ну, а что еще я могу сделать. Вокруг шумят птицы. Ольга плачет на моем плече. На нас оглядываются люди.
— Ты, как конверт, который отправили путешествовать по миру. Взгляни на себя, ты сверху и донизу заклеен марками — привычками и жестами всех женщин, с которыми преломлял хлеб и делил постель. Но, сколько бы не было на конверте марок, значение имеет только одно. — Ольга сидит на лавочке рядом, такая уставшая, будто сам Бог положил ей ладони на плечи. Я забиваю табак в трубку. Мы на аллее, высаженной кипарисами.
— И что же тогда важно? Тот, кому адресовано письмо?
— Нет, вовсе нет. Ты же не веришь во всю эту чепуху. Важно то, что написано в письме.
Я смотрю на Ольгу, привычно запоминаю все ее черты, положение головы, разворот плеч. Достаю планшет с чистыми листами, и начинаю с эскиза. Спрашиваю:
— Что написано в твоем письме?
Ольга смотрит вдаль, туда, где между кипарисов блестит море.
— Одиночество синего цвета, — отвечает она. И я не могу ничего ей возразить.
Я попробовал заглянуть в себя, чтобы прочесть свое внутреннее письмо. Но там была написана какая-то абракадабра, недоступная моему пониманию.
… Мы проводили время, изучая друг друга. Принюхивались, как псы. Я сходил с ума от темной, звериной страсти, когда видел ее спину. Мне хотелось бежать и догнать, хотелось повалить и загрызть, как гепард загоняет лань. И тем больше я боялся своих неистовых желаний, чем лучше понимал, что она смотрит на меня теми же глазами хищника. Несколько раз звонила Луиза.
— Ты хоть любишь ее? Или каждый раз представляешь меня, когда раздвигаешь ей ноги? Ответь мне! — вопрошала меня Ольга.
— Она хорошая. Она ждет от меня ребенка, — отвечал я, и в сердце моем прокладывал себе дорогу червь сомнения, а Ольга шептала мне на ухо:
— Бедный, бедный ты мой, несчастный гений.
…Однажды, посреди ночи проснулся с фразой, которая засела в груди, где-то в области солнечного сплетения. «Пустота, которая остается в сердце мужчины после первой любви, со временем никуда не уходит и становится его смертью». Я смотрел на Ольгу, и отчетливо понимал, что нужно бежать. Прямо сейчас, бросив все вещи, схватив документы и бумажник, ехать в аэропорт. Я знал наверняка, что эта женщина убьет меня. Но потом снова уснул, и обо всем забыл.
— скажи, что любишь меня, — просит Ольга. Желтая бабочка пролетает совсем близко от лица. Их здесь сотни, этих бабочек. Вязко, словно пробиваясь сквозь дремотную пелену, звучит контрабас. Мы сидим за столиком уличного кафе, на сцене играет живая музыка, пот струится по вискам, и кажется, что невероятный жар от нагретой мостовой через ноги поднимается в голову.
— скажи, что любишь меня, — капризно повторяет Ольга. Мы провели вместе уже три дня, и я понимаю, что рано или поздно придется сказать ей, что скоро мне нужно уезжать. Что дома меня ждет Лу, несколько крупных и не очень заказов, роспись стены и оформление сайта. Но вместо этого я говорю ей:
— Я люблю тебя.
Ольга особенно хороша в профиль, у нее нос с небольшой горбинкой и острые скулы. Куда бы мы не шли сегодня, всюду нас сопровождают желтые бабочки. Она поворачивается и смотрит на меня исподлобья, как звереныш:
— А теперь скажи, что ты говоришь на самом деле
— Я говорю, что люблю тебя.
— Нееет, — Ольга наклоняется к самому моему уху, — на самом деле ты говоришь, что хочешь меня трахнуть.
Волна озноба пробегает по спине, дыхание перехватывает от сладкого желания, и, прежде чем я успеваю что-то ответить, Ольга взмахивает рукой:
— Официант, счет, пожалуйста!
— Зачем ты привел меня сюда?
— Я хочу, чтобы ты увидела, что я чувствую по отношению к тебе.
На Ольге легкая цветастая туника и стеклянные бусы. Ее спина надменно пряма, глаза скрывают солнцезащитные очки. Ольга молчит.
— Ты знаешь, бывают корабли в бутылках, а бывают молнии, заключенные в бутылку. То, что я чувствую к тебе — это молния в бутылке. Она жжет меня изнутри, и там уже все черно от копоти. Желудок, сердце, легкие — все покрылось толстым черным слоем. И если вдруг выпустить эту молнию, этого изголодавшегося джина — я боюсь, он убьет и меня, и тебя.
Ольга вздыхает:
— Ты знаешь правила. Именно поэтому я попыталась сбежать тогда.
Внутри меня закипает гнев.
— Зачем тогда все это? Могла бы просто не писать это дурацкое письмо!
Ольга молчит. Останавливается. Снимает солнцезащитные очки. Я вижу, что ее глаза на мокром месте. Ей богу, вот-вот разревется, как девочка.
— Потому что я не смогла без тебя. Каждый день о тебе вспоминала. И потом, однажды проснулась и поняла, что если не напишу тебе, то все, руки на себя наложу. Едва вызнала через общих знакомых твой новый адрес.
Я обнимаю ее. Ну, а что еще я могу сделать. Вокруг шумят птицы. Ольга плачет на моем плече. На нас оглядываются люди.
— Ты, как конверт, который отправили путешествовать по миру. Взгляни на себя, ты сверху и донизу заклеен марками — привычками и жестами всех женщин, с которыми преломлял хлеб и делил постель. Но, сколько бы не было на конверте марок, значение имеет только одно. — Ольга сидит на лавочке рядом, такая уставшая, будто сам Бог положил ей ладони на плечи. Я забиваю табак в трубку. Мы на аллее, высаженной кипарисами.
— И что же тогда важно? Тот, кому адресовано письмо?
— Нет, вовсе нет. Ты же не веришь во всю эту чепуху. Важно то, что написано в письме.
Я смотрю на Ольгу, привычно запоминаю все ее черты, положение головы, разворот плеч. Достаю планшет с чистыми листами, и начинаю с эскиза. Спрашиваю:
— Что написано в твоем письме?
Ольга смотрит вдаль, туда, где между кипарисов блестит море.
— Одиночество синего цвета, — отвечает она. И я не могу ничего ей возразить.
Я попробовал заглянуть в себя, чтобы прочесть свое внутреннее письмо. Но там была написана какая-то абракадабра, недоступная моему пониманию.
… Мы проводили время, изучая друг друга. Принюхивались, как псы. Я сходил с ума от темной, звериной страсти, когда видел ее спину. Мне хотелось бежать и догнать, хотелось повалить и загрызть, как гепард загоняет лань. И тем больше я боялся своих неистовых желаний, чем лучше понимал, что она смотрит на меня теми же глазами хищника. Несколько раз звонила Луиза.
— Ты хоть любишь ее? Или каждый раз представляешь меня, когда раздвигаешь ей ноги? Ответь мне! — вопрошала меня Ольга.
— Она хорошая. Она ждет от меня ребенка, — отвечал я, и в сердце моем прокладывал себе дорогу червь сомнения, а Ольга шептала мне на ухо:
— Бедный, бедный ты мой, несчастный гений.
…Однажды, посреди ночи проснулся с фразой, которая засела в груди, где-то в области солнечного сплетения. «Пустота, которая остается в сердце мужчины после первой любви, со временем никуда не уходит и становится его смертью». Я смотрел на Ольгу, и отчетливо понимал, что нужно бежать. Прямо сейчас, бросив все вещи, схватив документы и бумажник, ехать в аэропорт. Я знал наверняка, что эта женщина убьет меня. Но потом снова уснул, и обо всем забыл.
— скажи, что любишь меня, — просит Ольга. Желтая бабочка пролетает совсем близко от лица. Их здесь сотни, этих бабочек. Вязко, словно пробиваясь сквозь дремотную пелену, звучит контрабас. Мы сидим за столиком уличного кафе, на сцене играет живая музыка, пот струится по вискам, и кажется, что невероятный жар от нагретой мостовой через ноги поднимается в голову.
— скажи, что любишь меня, — капризно повторяет Ольга. Мы провели вместе уже три дня, и я понимаю, что рано или поздно придется сказать ей, что скоро мне нужно уезжать. Что дома меня ждет Лу, несколько крупных и не очень заказов, роспись стены и оформление сайта. Но вместо этого я говорю ей:
— Я люблю тебя.
Ольга особенно хороша в профиль, у нее нос с небольшой горбинкой и острые скулы. Куда бы мы не шли сегодня, всюду нас сопровождают желтые бабочки. Она поворачивается и смотрит на меня исподлобья, как звереныш:
— А теперь скажи, что ты говоришь на самом деле
— Я говорю, что люблю тебя.
— Нееет, — Ольга наклоняется к самому моему уху, — на самом деле ты говоришь, что хочешь меня трахнуть.
Волна озноба пробегает по спине, дыхание перехватывает от сладкого желания, и, прежде чем я успеваю что-то ответить, Ольга взмахивает рукой:
— Официант, счет, пожалуйста!
Глава 1
Сторож мёртвого поезда
Город карнавала! Это город карнавала! — смеется Ольга, уже немного пьяная, с раскиданными по плечам волосами. Грудь ее вздымается и опадает, так как мы только что пробежали не меньше квартала, держась за руки.
— Завтра вечером я уеду, — говорю ей, замирая от страха. Потому что знаю, если Ольга прикажет мне остаться, я не смогу ей противиться.
— Я так и думала, — вздыхает она, — ничего удивительного. Я и сама намеревалась уехать на днях, не поверишь, но у меня тоже есть работа и неоконченные дела. Но сегодня будет карнавал!
… Город, истомившийся после трех дней палящей жары, жаждет дождя. И мы оба чувствуем, как чувствовали это всегда, что дождь придет ночью. И пропыленные обочины, и запах жареного мяса, и разноголосый гул на привокзальной площади — во всем этом есть ощущение грозы. Я машинально поправляю косу, которую обрезала Ольга, и дергаю плечом, не находя ее на месте.
— Давай напьемся сегодня, — говорит она мне, — напьемся, разденемся и будем гулять ночью под дождем совсем голые!
— Всю ночь напролет?
Вместо ответа Ольга начинает петь. Голос у нее глубокий и чистый, с перекатами, как на горной речке:
— Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни, один за одним. Мы видели, как уезжает последний трамвай***…
В это самое мгновение рядом с нами действительно останавливается старый красный трамвай. И, обрадовавшись такому совпадению, мы тут же запрыгиваем внутрь, не разобравшись даже, куда он едет.
… Когда уселись, Ольга долго смотрит прямо перед собой, и потом говорит, наконец, с какой-то невероятной тоской в голосе:
— Ты был рожден, чтобы бежать. Но ты сам сломал себе ноги.****
***
— Сахарная вата, — говорит Ольга, — купи мне сахарной ваты!
В этом она вся, вечно ведет себя, как маленькая девочка. Страшно сказать, но именно это мне в ней нравится больше всего. Она маленькая лисичка с окровавленной мордашкой.
Трамвай привез нас в городской парк развлечений, ветхий, заросший, и потому особенно очаровательный. Ветер трепал разноцветные флажки, поскрипывали карусели, смеялись дети, и посреди всего этого курортного великолепия стоял лоток с сахарной ватой.
— Вата! Вата! — я подхватил Ольгу на руки, и закружил, а она хохотала — отпусти меня! Отпусти!
Пока мы дурачились, к лотку подошел отец с маленькой дочерью. Увидев нас, девочка начала приставать к папе и требовать, чтобы он тоже взял ее на ручки. Грузный мужчина в цветастой рубашке поднял пятилетнюю девочку, и чмокнул в губы. Дочь рассмеялась, и схватила отца за уши.
— Какая мерзость, — скривилась Ольга. Было похоже, что ее вот-вот стошнит, — что-то я больше не хочу сахарной ваты.
Город праздновал, будто чувствовал, что хорошая погода заканчивается. Беспокойство, щемящее, как скрип несмазанных петель, поселилось в моей груди ближе к вечеру. Улицы захлестнула волна карнавала, буйство праздника, в котором было довольно всего — и похоти, и волшебства. Грязь мешалась с золотом, по улицам бродили люди на ходулях, которые несли на длинных шестах масляные фонари, факиры выпускали вместе с огнем строки старинных стихов, давно позабытых, а женщины оголяли груди и рисовали глаза вокруг соска. В городе творились чудеса, небо разрывалось салютом, словно простыня в любовной страсти, а страх внутри меня становился все острее. Он тонкой проволокой вонзался в сердце, и как тогда, пять лет назад, я следил за каждым движением Ольги, стремился запомнить каждый ее жест и каждое слово. Мы оба были взволнованы и ждали грозу.
— Рисуй меня, рисуй меня, мастер! — Ольга сняла блузку. Я взял ее за подбородок и заглянул в глаза. И увидел в них такое отчаяние и голод, что невольно закусил губу.
— Садись и не двигайся. Я буду рисовать тебя, — сказал я ей, и сделал неторопливый, тягучий глоток вина из бутылки, что мы прихватили с собой.
… Художник как шаман, который постоянно путешествует из одного мира в другой. Из мира, где нет смерти, мира его красок и линий, сюда, на землю. Это все равно, что ныряльщик, который выскакивает с глубины на поверхность и кровь вскипает в его голове, и рвутся барабанные перепонки. Я рисовал Ольгу, и был счастлив.
Когда я очнулся, небо за окнами прорвалось дождем. Не знаю, сколько времени прошло — полчаса, час или два. Мне нужно было закончить рисунок. Критически оглядев свою работу, я нашел, что в ней есть то же состояние, та же благость, что в иконе. И это не смотря на то, что Ольга была изображена полностью нагой. Вот только немного подправить линию бедра…
Она встала, и подошла ко мне вплотную. Взяла мои заляпанные краской ладони, и приложила к своему лицу, шее, груди. Сказала:
— Вымой меня. Я такая грязная. Очень грязная, и меня нужно как следует потереть мочалкой.
…За окном раздался раскат грома.
Я был бессмертен в эту ночь. Молния, заточенная во мне, острым кинжалом била изнутри в ребра. За окном ревел ветер, который стирал весь мир, как ластик. Мне хотелось обладать Ольгой больше, чем дышать. Я мечтал поглотить ее всю, я с наслаждением представлял, как хрустнуло бы ее тонкое запястье на моих зубах. Мои пальцы скользнули вниз ее живота, и я тут же почувствовал, как напряглись ее мышцы:
— Нет, нельзя, — мягко, но неотвратимо сказала Ольга, — ты знаешь правила.
… Но я уже не мог остановиться. Я целовал ее шею, ее разгоряченные губы и мокрые волосы, и тянулся пальцами к заветному лону. Так и не смог понять, когда наши ласки перешли в ожесточенную борьбу.
— Нельзя! Нельзя! Нет! Не трогай меня, тварь! Убери руки! — кричала Ольга в истерике. Я выволок ее из ванны за волосы и потащил на кровать.
— Сейчас ты за все ответишь! За все эти годы, что мучила меня! — в исступлении кричал я. Моя молния билась в самом горле, на глаза навернулись злые слезы.
… Ольга извернулась, и умудрилась укусить меня. От боли я взвыл и отшвырнул ее, как кошку. Ольга, ударившись о стену, так и осталась лежать. Я испугался за нее, тут же присел рядом.
— Как ты, милая? Ты в порядке? Прости, прости меня, умоляю, прости меня, — я гладил ее по волосам.
… Напрасно, это оказалось подлой уловкой — Ольга вскочила, как пружина, и вцепилась мне в лицо, стремясь выцарапать глаза. Когда я упал, она кинулась на веранду и схватила нож.
— Только подойди, — сказала она, выставив его перед собой, — только тронь меня.
— Давай! — закричал я, — лучше так! Да, лучше так!
Ольга улыбнулась. Криво, так, что левый уголок губ у нее постоянно подрагивал. А потом размахнулась и метнула нож.
…Все, что я успел сделать — это инстинктивно прикрыть голову и сдвинуться немного в сторону. Это спасло меня, нож довольно глубоко вошел в дверной косяк как раз там, где еще секунду назад была моя шея. Ольга из веранды выбежала на улицу, под острые струи дождя.
Она бежала на удивление быстро, как молодая лань. Я видел далеко впереди ее белую спину, и больше всего на свете мне хотелось догнать ее и повалить на мокрый асфальт. Мне хотелось растерзать ее, рвать зубами белую кожу, обладать ею прямо здесь, на холодной земле. Сам не заметил, как мы выскочили на набережную, неподалеку от Скалы желаний. Море ревело и кидало волны на гранит. Ольга обернулась, и я запомнил ее затравленный взгляд. Зверь во мне возликовал — ну вот, попалась! И в этот миг, бесконечно долгий, Ольга кинулась в бушующее море. Я колебался ровно секунду.
… Страшно умирать. Очень страшно. Нужно не паниковать, нужно двигаться. Я сумею. Главное не глотать слишком много соленой воды. Как же хочется жить, мамочка, как хочется жить. Дышать ровно. Волна захлестывает меня, и я, хрипя и отплевываясь, хватаю воздух. Барахтаюсь бестолково, как щенок, чудом запрыгиваю грудью на следующую волну. Я жив, я еще жив, я счастлив. У меня получится спастись. И тут меня накрывает новая волна. Смутно вижу впереди громаду скалы. Вокруг нее настоящий ад. Как же страшно умирать. Из последних сил, плыву туда, где крутятся водовороты. Понимаю, что сейчас меня размажет о камни. «Лучше так. Пусть лучше так». Лелею крошечный шанс взобраться на скалу. 234 ступени. А ведь я так ничего и не загадал…
Как великан, море берет меня в ладонь, и кидает на камни. Кровь смешивается с водой. Волна тащит меня назад, но потом снова подхватывает, как куклу, чтобы вновь кинуть на скалу. Жить. Я не сдамся. Не сейчас! Кажется, я кричу. Цепляюсь за скользкий камень, за водоросли, за воздух. Должен!
…И внезапно тонкие, но необычайно сильные руки Ольги хватают меня за ворот рубашки, за волосы, и тащат наверх. Туда, где жизнь. Она всегда плавала лучше, чем я.
Ее лицо совсем близко. Я отплевываюсь от соленой воды, по подбородку стекает кровь из разбитого носа. Я целую Ольгу окровавленным ртом, всего меня трясет.
— Почему?! — я стараюсь перекрыть рев бури, — почему мы не можем просто жить, как нормальные люди?
Ольга облизывает губы, вымазанные моей кровью. Она отвечает негромко, но мне отчего-то слышно каждое слово:
— Потому что мы оба на всю голову ненормальные, — и, будто хочет меня добить, добавляет с усмешкой, — братец.
— Посиди пока с сестрой, — говорит мама русоволосому мальчику, который упрямо хмурит брови и роет сандалией песок.
— Ну, мама, я хочу купаться! Почему я должен сидеть с ней?
— Потому что ты старший, твоя обязанность — заботиться о сестре. Я скоро вернусь.
Мальчик, на вид ему лет десять, едва заметно кивает. Вокруг пляж, шумят люди, накатывает на берег прибой, грузная тетка зазывает отдыхающих на морскую экскурсию. На широком полотенце с изображением попугая сидит пятилетняя девочка. Она раздевает куклу барби, и делает вид, что ничего не услышала. Когда мама уходит, она обиженно спрашивает:
— Ты меня совсем не любишь, да?
— Ты глупая? Просто я хочу искупаться. Посмотри пока за вещами!
— Нет! Я хочу с тобой. Не оставляй меня!
— Ты еще слишком маленькая! Отпусти! — мальчик отталкивает сестру, которая пытается ухватиться за его ладонь, и убегает к морю.
— Папа бы меня никогда не бросил! — кричит девочка вслед.
… Девочка сидит, и утирает кулачком слезы. Вдруг солнце заслоняет чья-то тень, она поднимает голову и видит огромную фигуру. Она кажется ей безликой и совсем черной. Позже она различает волосатую грудь, оттопыренные уши, сросшиеся на переносице брови. Но больше всего ее внимание привлекает красивый игрушечный вертолет в руках незнакомца.
— Ты почему такая красивая плачешь, а? Хочешь, поиграем?
— Хочу, — говорит девочка.
— Пойдем, поиграем.
— Но мне нельзя уходить, я должна сторожить вещи.
— А мы недолго поиграем, а потом вернемся. Хорошо?
Девочка смотрит в сторону моря, куда убежал ее старший брат. Потом на игрушечный вертолет.
— Нравится? Подарю тебе, — говорит ей незнакомец.
— Хорошо.
Мужчина уводит девочку в сторону ближайшей раздевалки, которых полно на пляже.
…Когда мальчик возвращается, он видит взволнованную мать, а рядом с ней коренастого смуглого мужчину и свою сестру. Он слышит обрывки разговора:
— Я думал, потерялась девочка. Где, спрашиваю, твоя мама, а она все молчит — говорит незнакомец.
— Да, да, конечно… хорошо, что вы ее нашли. А вот и ты, олух! — мать бьет мальчика по уху, — как ты мог бросить сестру? Отца на тебя не хватает!
Мальчику обидно от такой несправедливости. Глотая слезы, он отвечает:
— Но я ведь всего на десять минут!
Девочка молчит, мертвой хваткой сжимая в руках глупый пластиковый вертолет. У нее липкие губы, и в углу рта повисла небольшая белая бусина, которую она быстро сглатывает. Мать этого не замечает.
— Ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу! Урод, ублюдок, как ты мог бросить меня тогда? Как ты мог? — сестра бьется в истерике, и бестолково лупит меня кулаками, — теперь ты все знаешь, теперь ты знаешь… он отвел меня прямо в раздевалку, а я… а потом… Ты же должен был присматривать за мной! Ненавижу, ненавижу тебя, все эти годы ненавидела. За что, за что ты так со мной поступил?
Я сижу по градом ее ударов, закрыв голову руками, глотая кровь из разбитого носа, и жалею, что не захлебнулся в море. Мы взобрались по лестнице на самый верх, и далеко внизу ярятся волны. Вся страсть, что была во мне к этой женщине, родной мне по крови, угасла под ледяной оплеухой стыда.
— Я не знал! Прости! Я не знал! — кричу я. Внезапно Ольга стихает. Ее все еще сотрясают рыдания.
— Теперь ты знаешь, — говорит она. Ей очень холодно, руки и ноги у нее дрожат, и подбородок ходит из стороны в сторону.
— Иди ко мне, — зову я, — ты совсем замерзла.
Ольга не двигается, и мне настолько страшно, что хочется головой вниз туда, где волны. Во всем белом свете не было и не будет человека ближе, чем она. Мне страшно прикоснуться к ней. Я боюсь, что она отстранится. Собрав в кулак всю волю, я протягиваю руку и касаюсь ее плеча. И вдруг она, будто только этого и ждала, прижимается к моей груди. Я обнимаю ее, стараясь отдать ей все свое тепло.
— А помнишь… помнишь, как мы пошли охотиться на жуков? Это была жучиная война, помнишь? — Ольга начинает тихо и нервно смеяться, — я тогда, дура, наступила на ржавый гвоздь. И ты тащил меня на руках до самого дома.
— А помнишь, как мальчишки из соседнего двора решили меня побить, а ты высунулась из окна с рогаткой, и обстреляла их грецкими орехами? — спрашиваю я ее.
Она, конечно же, помнит. Я обнимаю ее, и понимаю, что в моей груди больше нет ядовитой молнии. Я просто люблю свою сестру. Такой, какая она есть.
— Знаешь, у меня всегда что-нибудь болело, сколько себя помню. Или голова, или живот, или зуб. Бывает, проснусь с утра, и уже чувствую боль. Страшно сказать, привыкла жить с этим, как ко всему привыкаешь. А вот сегодня я проснулась, и у меня ничего не болит! — говорит Ольга.
— Это очень хорошо, — отвечаю я, чувствуя, как свинцовый шарик понимания прокатывается в жестяной банке моего сердца.
… Мы дождались рассвета, с грехом пополам выбрались на берег и добрели до нашего съемного жилья. Потом выспались в теплой и мягкой постели. С утра уже успели выпить по несколько убойных кружек кофе и съесть здоровенный стейк с кровью. Я смотрю на Ольгу и улыбаюсь. Вечером у меня куплены билеты на самолет. Пора возвращаться к семье.
— Ну, что будем делать дальше, любовь моя? — спрашивает меня сестра.
— Жить, конечно, по возможности — долго и счастливо. А если на самом деле, то как повезет.
— Сделаешь мне подарок? Если, конечно, несложно.
— Какой подарок? — спрашиваю я, зная, что отдам ей все, что она попросит.
— Если родится девочка, назови ее в мою честь — отвечает Ольга.
Мы сидим на веранде, и тут я толкаю Ольгу в бок и указываю на небо. Там проплывает огромная связка разноцветных шаров. Мы смеемся, и никак не можем остановиться. До слез.
— Завтра вечером я уеду, — говорю ей, замирая от страха. Потому что знаю, если Ольга прикажет мне остаться, я не смогу ей противиться.
— Я так и думала, — вздыхает она, — ничего удивительного. Я и сама намеревалась уехать на днях, не поверишь, но у меня тоже есть работа и неоконченные дела. Но сегодня будет карнавал!
… Город, истомившийся после трех дней палящей жары, жаждет дождя. И мы оба чувствуем, как чувствовали это всегда, что дождь придет ночью. И пропыленные обочины, и запах жареного мяса, и разноголосый гул на привокзальной площади — во всем этом есть ощущение грозы. Я машинально поправляю косу, которую обрезала Ольга, и дергаю плечом, не находя ее на месте.
— Давай напьемся сегодня, — говорит она мне, — напьемся, разденемся и будем гулять ночью под дождем совсем голые!
— Всю ночь напролет?
Вместо ответа Ольга начинает петь. Голос у нее глубокий и чистый, с перекатами, как на горной речке:
— Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни, один за одним. Мы видели, как уезжает последний трамвай***…
В это самое мгновение рядом с нами действительно останавливается старый красный трамвай. И, обрадовавшись такому совпадению, мы тут же запрыгиваем внутрь, не разобравшись даже, куда он едет.
… Когда уселись, Ольга долго смотрит прямо перед собой, и потом говорит, наконец, с какой-то невероятной тоской в голосе:
— Ты был рожден, чтобы бежать. Но ты сам сломал себе ноги.****
***
— Сахарная вата, — говорит Ольга, — купи мне сахарной ваты!
В этом она вся, вечно ведет себя, как маленькая девочка. Страшно сказать, но именно это мне в ней нравится больше всего. Она маленькая лисичка с окровавленной мордашкой.
Трамвай привез нас в городской парк развлечений, ветхий, заросший, и потому особенно очаровательный. Ветер трепал разноцветные флажки, поскрипывали карусели, смеялись дети, и посреди всего этого курортного великолепия стоял лоток с сахарной ватой.
— Вата! Вата! — я подхватил Ольгу на руки, и закружил, а она хохотала — отпусти меня! Отпусти!
Пока мы дурачились, к лотку подошел отец с маленькой дочерью. Увидев нас, девочка начала приставать к папе и требовать, чтобы он тоже взял ее на ручки. Грузный мужчина в цветастой рубашке поднял пятилетнюю девочку, и чмокнул в губы. Дочь рассмеялась, и схватила отца за уши.
— Какая мерзость, — скривилась Ольга. Было похоже, что ее вот-вот стошнит, — что-то я больше не хочу сахарной ваты.
Город праздновал, будто чувствовал, что хорошая погода заканчивается. Беспокойство, щемящее, как скрип несмазанных петель, поселилось в моей груди ближе к вечеру. Улицы захлестнула волна карнавала, буйство праздника, в котором было довольно всего — и похоти, и волшебства. Грязь мешалась с золотом, по улицам бродили люди на ходулях, которые несли на длинных шестах масляные фонари, факиры выпускали вместе с огнем строки старинных стихов, давно позабытых, а женщины оголяли груди и рисовали глаза вокруг соска. В городе творились чудеса, небо разрывалось салютом, словно простыня в любовной страсти, а страх внутри меня становился все острее. Он тонкой проволокой вонзался в сердце, и как тогда, пять лет назад, я следил за каждым движением Ольги, стремился запомнить каждый ее жест и каждое слово. Мы оба были взволнованы и ждали грозу.
— Рисуй меня, рисуй меня, мастер! — Ольга сняла блузку. Я взял ее за подбородок и заглянул в глаза. И увидел в них такое отчаяние и голод, что невольно закусил губу.
— Садись и не двигайся. Я буду рисовать тебя, — сказал я ей, и сделал неторопливый, тягучий глоток вина из бутылки, что мы прихватили с собой.
… Художник как шаман, который постоянно путешествует из одного мира в другой. Из мира, где нет смерти, мира его красок и линий, сюда, на землю. Это все равно, что ныряльщик, который выскакивает с глубины на поверхность и кровь вскипает в его голове, и рвутся барабанные перепонки. Я рисовал Ольгу, и был счастлив.
Когда я очнулся, небо за окнами прорвалось дождем. Не знаю, сколько времени прошло — полчаса, час или два. Мне нужно было закончить рисунок. Критически оглядев свою работу, я нашел, что в ней есть то же состояние, та же благость, что в иконе. И это не смотря на то, что Ольга была изображена полностью нагой. Вот только немного подправить линию бедра…
Она встала, и подошла ко мне вплотную. Взяла мои заляпанные краской ладони, и приложила к своему лицу, шее, груди. Сказала:
— Вымой меня. Я такая грязная. Очень грязная, и меня нужно как следует потереть мочалкой.
…За окном раздался раскат грома.
Я был бессмертен в эту ночь. Молния, заточенная во мне, острым кинжалом била изнутри в ребра. За окном ревел ветер, который стирал весь мир, как ластик. Мне хотелось обладать Ольгой больше, чем дышать. Я мечтал поглотить ее всю, я с наслаждением представлял, как хрустнуло бы ее тонкое запястье на моих зубах. Мои пальцы скользнули вниз ее живота, и я тут же почувствовал, как напряглись ее мышцы:
— Нет, нельзя, — мягко, но неотвратимо сказала Ольга, — ты знаешь правила.
… Но я уже не мог остановиться. Я целовал ее шею, ее разгоряченные губы и мокрые волосы, и тянулся пальцами к заветному лону. Так и не смог понять, когда наши ласки перешли в ожесточенную борьбу.
— Нельзя! Нельзя! Нет! Не трогай меня, тварь! Убери руки! — кричала Ольга в истерике. Я выволок ее из ванны за волосы и потащил на кровать.
— Сейчас ты за все ответишь! За все эти годы, что мучила меня! — в исступлении кричал я. Моя молния билась в самом горле, на глаза навернулись злые слезы.
… Ольга извернулась, и умудрилась укусить меня. От боли я взвыл и отшвырнул ее, как кошку. Ольга, ударившись о стену, так и осталась лежать. Я испугался за нее, тут же присел рядом.
— Как ты, милая? Ты в порядке? Прости, прости меня, умоляю, прости меня, — я гладил ее по волосам.
… Напрасно, это оказалось подлой уловкой — Ольга вскочила, как пружина, и вцепилась мне в лицо, стремясь выцарапать глаза. Когда я упал, она кинулась на веранду и схватила нож.
— Только подойди, — сказала она, выставив его перед собой, — только тронь меня.
— Давай! — закричал я, — лучше так! Да, лучше так!
Ольга улыбнулась. Криво, так, что левый уголок губ у нее постоянно подрагивал. А потом размахнулась и метнула нож.
…Все, что я успел сделать — это инстинктивно прикрыть голову и сдвинуться немного в сторону. Это спасло меня, нож довольно глубоко вошел в дверной косяк как раз там, где еще секунду назад была моя шея. Ольга из веранды выбежала на улицу, под острые струи дождя.
Она бежала на удивление быстро, как молодая лань. Я видел далеко впереди ее белую спину, и больше всего на свете мне хотелось догнать ее и повалить на мокрый асфальт. Мне хотелось растерзать ее, рвать зубами белую кожу, обладать ею прямо здесь, на холодной земле. Сам не заметил, как мы выскочили на набережную, неподалеку от Скалы желаний. Море ревело и кидало волны на гранит. Ольга обернулась, и я запомнил ее затравленный взгляд. Зверь во мне возликовал — ну вот, попалась! И в этот миг, бесконечно долгий, Ольга кинулась в бушующее море. Я колебался ровно секунду.
… Страшно умирать. Очень страшно. Нужно не паниковать, нужно двигаться. Я сумею. Главное не глотать слишком много соленой воды. Как же хочется жить, мамочка, как хочется жить. Дышать ровно. Волна захлестывает меня, и я, хрипя и отплевываясь, хватаю воздух. Барахтаюсь бестолково, как щенок, чудом запрыгиваю грудью на следующую волну. Я жив, я еще жив, я счастлив. У меня получится спастись. И тут меня накрывает новая волна. Смутно вижу впереди громаду скалы. Вокруг нее настоящий ад. Как же страшно умирать. Из последних сил, плыву туда, где крутятся водовороты. Понимаю, что сейчас меня размажет о камни. «Лучше так. Пусть лучше так». Лелею крошечный шанс взобраться на скалу. 234 ступени. А ведь я так ничего и не загадал…
Как великан, море берет меня в ладонь, и кидает на камни. Кровь смешивается с водой. Волна тащит меня назад, но потом снова подхватывает, как куклу, чтобы вновь кинуть на скалу. Жить. Я не сдамся. Не сейчас! Кажется, я кричу. Цепляюсь за скользкий камень, за водоросли, за воздух. Должен!
…И внезапно тонкие, но необычайно сильные руки Ольги хватают меня за ворот рубашки, за волосы, и тащат наверх. Туда, где жизнь. Она всегда плавала лучше, чем я.
Ее лицо совсем близко. Я отплевываюсь от соленой воды, по подбородку стекает кровь из разбитого носа. Я целую Ольгу окровавленным ртом, всего меня трясет.
— Почему?! — я стараюсь перекрыть рев бури, — почему мы не можем просто жить, как нормальные люди?
Ольга облизывает губы, вымазанные моей кровью. Она отвечает негромко, но мне отчего-то слышно каждое слово:
— Потому что мы оба на всю голову ненормальные, — и, будто хочет меня добить, добавляет с усмешкой, — братец.
— Посиди пока с сестрой, — говорит мама русоволосому мальчику, который упрямо хмурит брови и роет сандалией песок.
— Ну, мама, я хочу купаться! Почему я должен сидеть с ней?
— Потому что ты старший, твоя обязанность — заботиться о сестре. Я скоро вернусь.
Мальчик, на вид ему лет десять, едва заметно кивает. Вокруг пляж, шумят люди, накатывает на берег прибой, грузная тетка зазывает отдыхающих на морскую экскурсию. На широком полотенце с изображением попугая сидит пятилетняя девочка. Она раздевает куклу барби, и делает вид, что ничего не услышала. Когда мама уходит, она обиженно спрашивает:
— Ты меня совсем не любишь, да?
— Ты глупая? Просто я хочу искупаться. Посмотри пока за вещами!
— Нет! Я хочу с тобой. Не оставляй меня!
— Ты еще слишком маленькая! Отпусти! — мальчик отталкивает сестру, которая пытается ухватиться за его ладонь, и убегает к морю.
— Папа бы меня никогда не бросил! — кричит девочка вслед.
… Девочка сидит, и утирает кулачком слезы. Вдруг солнце заслоняет чья-то тень, она поднимает голову и видит огромную фигуру. Она кажется ей безликой и совсем черной. Позже она различает волосатую грудь, оттопыренные уши, сросшиеся на переносице брови. Но больше всего ее внимание привлекает красивый игрушечный вертолет в руках незнакомца.
— Ты почему такая красивая плачешь, а? Хочешь, поиграем?
— Хочу, — говорит девочка.
— Пойдем, поиграем.
— Но мне нельзя уходить, я должна сторожить вещи.
— А мы недолго поиграем, а потом вернемся. Хорошо?
Девочка смотрит в сторону моря, куда убежал ее старший брат. Потом на игрушечный вертолет.
— Нравится? Подарю тебе, — говорит ей незнакомец.
— Хорошо.
Мужчина уводит девочку в сторону ближайшей раздевалки, которых полно на пляже.
…Когда мальчик возвращается, он видит взволнованную мать, а рядом с ней коренастого смуглого мужчину и свою сестру. Он слышит обрывки разговора:
— Я думал, потерялась девочка. Где, спрашиваю, твоя мама, а она все молчит — говорит незнакомец.
— Да, да, конечно… хорошо, что вы ее нашли. А вот и ты, олух! — мать бьет мальчика по уху, — как ты мог бросить сестру? Отца на тебя не хватает!
Мальчику обидно от такой несправедливости. Глотая слезы, он отвечает:
— Но я ведь всего на десять минут!
Девочка молчит, мертвой хваткой сжимая в руках глупый пластиковый вертолет. У нее липкие губы, и в углу рта повисла небольшая белая бусина, которую она быстро сглатывает. Мать этого не замечает.
— Ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу! Урод, ублюдок, как ты мог бросить меня тогда? Как ты мог? — сестра бьется в истерике, и бестолково лупит меня кулаками, — теперь ты все знаешь, теперь ты знаешь… он отвел меня прямо в раздевалку, а я… а потом… Ты же должен был присматривать за мной! Ненавижу, ненавижу тебя, все эти годы ненавидела. За что, за что ты так со мной поступил?
Я сижу по градом ее ударов, закрыв голову руками, глотая кровь из разбитого носа, и жалею, что не захлебнулся в море. Мы взобрались по лестнице на самый верх, и далеко внизу ярятся волны. Вся страсть, что была во мне к этой женщине, родной мне по крови, угасла под ледяной оплеухой стыда.
— Я не знал! Прости! Я не знал! — кричу я. Внезапно Ольга стихает. Ее все еще сотрясают рыдания.
— Теперь ты знаешь, — говорит она. Ей очень холодно, руки и ноги у нее дрожат, и подбородок ходит из стороны в сторону.
— Иди ко мне, — зову я, — ты совсем замерзла.
Ольга не двигается, и мне настолько страшно, что хочется головой вниз туда, где волны. Во всем белом свете не было и не будет человека ближе, чем она. Мне страшно прикоснуться к ней. Я боюсь, что она отстранится. Собрав в кулак всю волю, я протягиваю руку и касаюсь ее плеча. И вдруг она, будто только этого и ждала, прижимается к моей груди. Я обнимаю ее, стараясь отдать ей все свое тепло.
— А помнишь… помнишь, как мы пошли охотиться на жуков? Это была жучиная война, помнишь? — Ольга начинает тихо и нервно смеяться, — я тогда, дура, наступила на ржавый гвоздь. И ты тащил меня на руках до самого дома.
— А помнишь, как мальчишки из соседнего двора решили меня побить, а ты высунулась из окна с рогаткой, и обстреляла их грецкими орехами? — спрашиваю я ее.
Она, конечно же, помнит. Я обнимаю ее, и понимаю, что в моей груди больше нет ядовитой молнии. Я просто люблю свою сестру. Такой, какая она есть.
— Знаешь, у меня всегда что-нибудь болело, сколько себя помню. Или голова, или живот, или зуб. Бывает, проснусь с утра, и уже чувствую боль. Страшно сказать, привыкла жить с этим, как ко всему привыкаешь. А вот сегодня я проснулась, и у меня ничего не болит! — говорит Ольга.
— Это очень хорошо, — отвечаю я, чувствуя, как свинцовый шарик понимания прокатывается в жестяной банке моего сердца.
… Мы дождались рассвета, с грехом пополам выбрались на берег и добрели до нашего съемного жилья. Потом выспались в теплой и мягкой постели. С утра уже успели выпить по несколько убойных кружек кофе и съесть здоровенный стейк с кровью. Я смотрю на Ольгу и улыбаюсь. Вечером у меня куплены билеты на самолет. Пора возвращаться к семье.
— Ну, что будем делать дальше, любовь моя? — спрашивает меня сестра.
— Жить, конечно, по возможности — долго и счастливо. А если на самом деле, то как повезет.
— Сделаешь мне подарок? Если, конечно, несложно.
— Какой подарок? — спрашиваю я, зная, что отдам ей все, что она попросит.
— Если родится девочка, назови ее в мою честь — отвечает Ольга.
Мы сидим на веранде, и тут я толкаю Ольгу в бок и указываю на небо. Там проплывает огромная связка разноцветных шаров. Мы смеемся, и никак не можем остановиться. До слез.